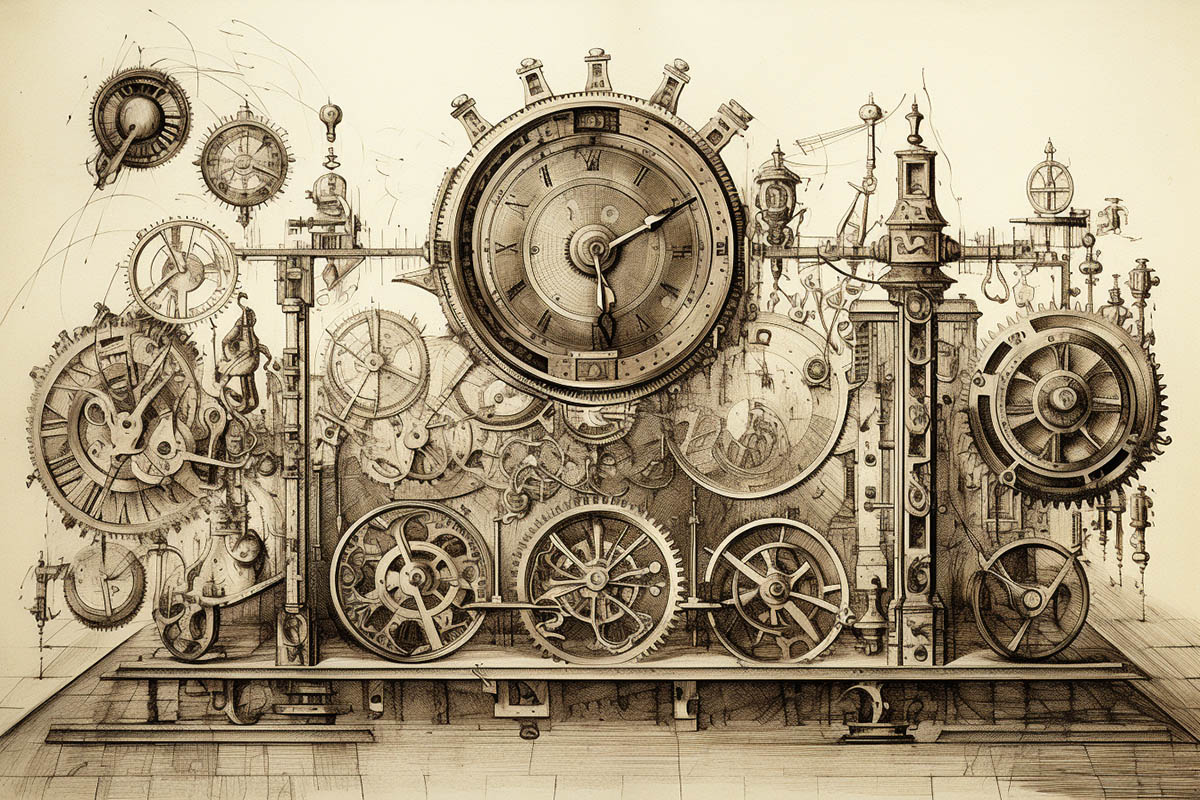 Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
Трудно жить на свете — особенно если пришлось уехать. Или, наоборот, все уехали, а ты нет. Чувство утраты, разлуки, разрушение привычного мира меняет нас и не дает двигаться дальше, а что хуже всего — порождает мысли о том, что всё кончено. Дальше не будет ничего; во всяком случае, ничего хорошего. В таких ситуациях, как ни странно, помогают разговоры о смерти, потому что, в сущности, всё поправимо, кроме неё. И это бодрит. Хорошо, что есть на свете специалисты, которые в буквальном смысле слова смотрели смерти в глаза и могут кое-что про неё рассказать.
Вот, например, социальный антрополог Сергей Мохов. До недавнего времени он жил в России, изучая феномен смерти в российском обществе и сознании. Работал в хосписах, в похоронных агентствах, писал научные труды. После начала войны Мохов из России уехал, но работу не оставил: открыл онлайн-курсы о смерти с оптимистичным названием «Признаки жизни», написал книгу о советской онкологии — короче говоря, всеми возможными способами продолжает борьбу с горем и утратой. Лучшего собеседника в нынешней ситуации трудно представить. Мы поговорили с Сергеем о его новой книге и курсах, а также о том, что такое горевание и можно ли его пережить.

Сергей Мохов. Автопортрет
«Ты не становишься прежним»
— В последний раз, когда мы встречались, тебя звали Сергей Мохов, тебе было 29 лет, ты жил в Москве, был социальным антропологом, издателем журнала «Археология русской смерти» и коллекционером игрушечных катафалков. Что изменилось за это время?
— Мне кажется, всё изменилось радикально — не только у меня, но и у нас всех. Я, правда, продолжаю оставаться социальным антропологом, по крайней мере, официально ещё несколько месяцев, пока не закончится мой контракт с ливерпульским университетом John Moores. Я больше не выпускаю журнал и больше не живу в России. Зато мы запустили онлайн-курсы про смерть и умирание, где будут читать лекции мои коллеги и эксперты в самых разных областях. Это то, что пришло на замену журналу. И тема у меня сейчас немного изменилась: я занимаюсь историей советской онкологии — как раз на этой неделе заканчиваю рукопись книги и, надеюсь, отправлю её в издательство.
— А что с коллекцией катафалков?
— Я, к сожалению, не смог бы её перевезти за границу. Так что подарил её своему другу и информанту Илье Болтунову: он похоронный директор и держит эту коллекцию в своём офисе.
— Расскажи: как живется ученому в эмиграции? Насколько я понимаю, у тебя была огромная база данных, контактов, связей, когда ты жил в России. Ты изучал феномен российской смерти. Теперь живёшь за рубежом — получается ли продолжать работу там?
— Это отличный вопрос, но у меня нет на него позитивного ответа в духе «10 советов, как адаптироваться к новой жизни». В сущности, я никак к ней не адаптировался и продолжаю это не-делать. Действительно все мои исследования я проводил в России, и Россия всегда была моим главным объектом исследования. Делал я это этнографическим способом, работая непосредственно в ситуации, будучи наблюдателем, участником социальных действий и пытаясь их интерпретировать. Я работал в похоронном бизнесе, работал в хосписах, работал в благотворительных организациях, которые занимаются инкурабельными пациентами, — это полевая, живая работа. Сейчас я не имею к ней доступа, и всё, что я знаю о России, — это то, что доносится из «чёрного ящика»; я принимаю сигналы, которые оттуда вылетают. Поэтому каким образом пересобрать себя, оставаясь с этими объектами изучения, — я пока, честно говоря, ещё не придумал. До поры до времени был занят своей книгой; слава Богу, я успел собрать всю информацию, которая была мне необходима, до того, как коробочка захлопнулась. Это очень грустная история, и я вовсе не уверен, что она может иметь счастливый конец. Я горюю, как и все; в определенном смысле занимаюсь сейчас «автоэтнографией». Люди ведь горюют не только о погибших и умерших, они ещё испытывают чувство утраты — разлуки с домом, с прошлой жизнью, с родными и близкими, с любимой булочной, спортзалом и прочими штуками, которые создавали привычную жизнь. И я нахожусь в такой же ситуации вот уже почти два года, переживаю это чувство и до сих пор его не пережил.
— То есть утрата любимой булочной — это тоже смерть?
— Да, только я бы не называл это смертью. Вообще горе связано не только с физической смертью конкретного человека. Горевание — это гораздо более широкое понятие, в теории горевания есть выражение «утрата связи»: то, что мы считаем безвозвратной утратой с каким-то объектом. В данном случае — с привычным образом жизни. По сути это тот же ПТСР, разрушение привычной жизни, желание вернуться в неё и невозможность это сделать. Мы все это переживаем, и, несмотря на то что нам кажется, что это ностальгия, ресентимент или ещё что-то, на самом деле это классическое горевание по утраченному миру.
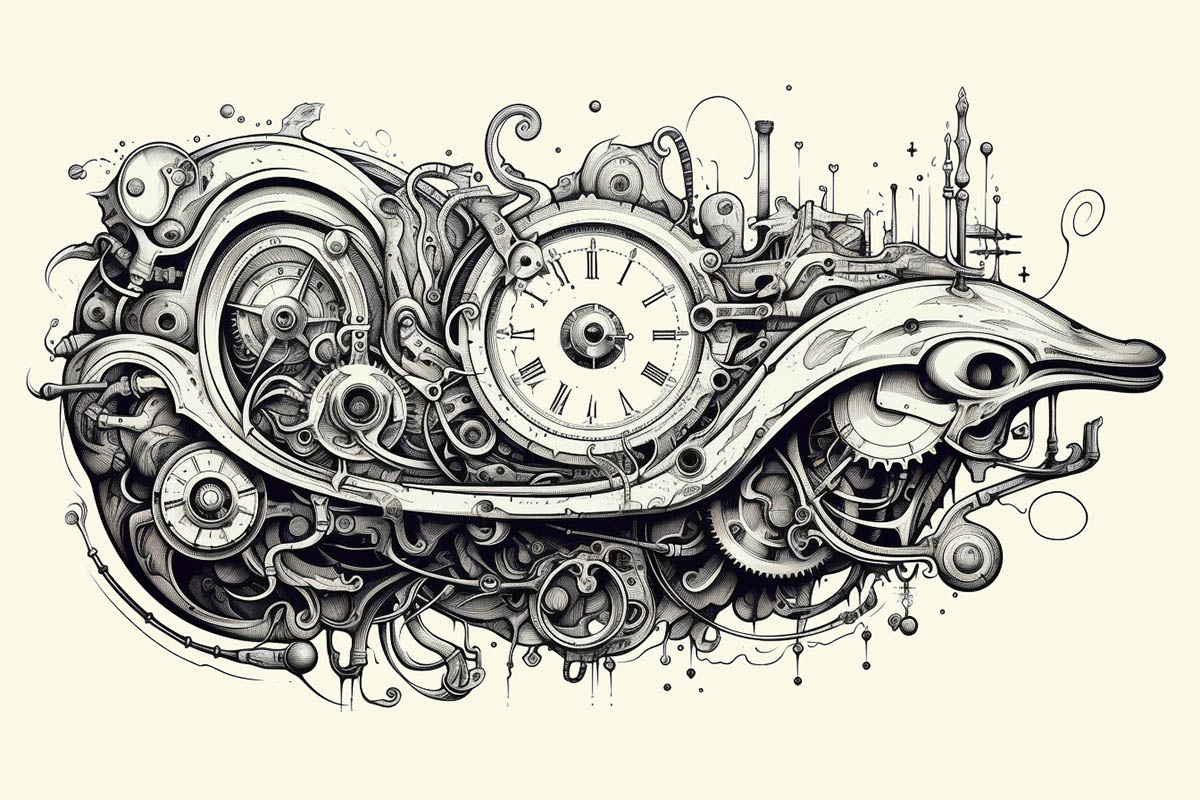
Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
— А из него есть выход, из этого горевания?
— Для кого-то есть, а для кого-то нет. Мы прекрасно знаем, что некоторые люди не выходят из горевания десятилетиями и так и не могут придумать себе новые точки опоры, изобрести новые смыслы. Очень важно понимать, что горе — это такая вещь, которую невозможно пройти без последствий. Эта вещь, которая в принципе меняет тебя драматически. И дальше весь вопрос в том, остаешься ли ты в этом состоянии или находишь новые точки опоры. Но даже найдя их, ты не возвращаешься, не становишься прежним — это принципиально новая жизнь и новое состояние. У кого-то это длится полгода, у кого-то годами. Здесь, к сожалению, нет никакой понятной схемы, всё перемешано, длится по-разному и по-разному заканчивается. У меня лично не закончилось, несмотря на длительный период, и, судя по общению с моими близкими и знакомыми, у многих это происходит аналогичным образом.
Иллюзия жизни
— Тем не менее ты продолжаешь трудиться, и это уже хорошо. Расскажи о своей книге про онкологию в СССР: как тебе это пришло в голову и о чём она?
— Первые зачатки идеи появились, когда я работал в Сибири в онкологическом хосписе и наблюдал за тем, как происходит современный уход, современное умирание. В силу специфики моего мышления мне безумно нравится, когда какой-то феномен можно объяснить большими теориями, большими моделями. Мне стало интересно: почему умирание устроено вот так, а не иначе? Почему вообще появились хосписы и хосписная идеология на Западе, а в СССР они не появились? Почему их импортировали в 1990-х годах различные активисты, которые приезжали из Великобритании? Каким образом эта модель встраивается или не встраивается в нынешние процессы? И вот, пытаясь увидеть в этом какие-то исторические проявления, я и обратился к советскому умиранию. То есть: было ли вместо хосписов в СССР что-то, что мешало им там появиться, и было ли что-то, о чём мы не знаем и даже не подозреваем? Потому что тяжело себе представить, что миллионы людей умирали, не получая никакой помощи, как обычно мы привыкли представлять, — вот, дескать, в Советском Союзе не было обезболивания, люди лежали на железных кроватях и умирали в одиночестве. Ну хорошо, а что же тогда там было?
Кроме того, мне показалось, что рассказать историю умирания от рака в СССР нельзя без того, чтобы не рассказать о том, что такое вообще советская онкология: как лечили рак, как его воображали и как исследовали, чем принципиально советская онкология отличалась от онкологии в других странах. Собственно, в книге моей две части: лечение и исследование рака — и забота об умирающих. Ещё там рассматриваются более базовые вопросы, вопросы модернизации. Например, мы знаем, что советская онкология в 1950-х годах «выстрелила» и была крайне успешной и привлекательной, вызывала много интереса среди специалистов в мире. С другой стороны, мы знаем, что советская онкология не добилась таких же впечатляющих результатов, как советская физика: атом, ледоколы, полёт в космос, оружие и так далее. Спрашивается, почему?
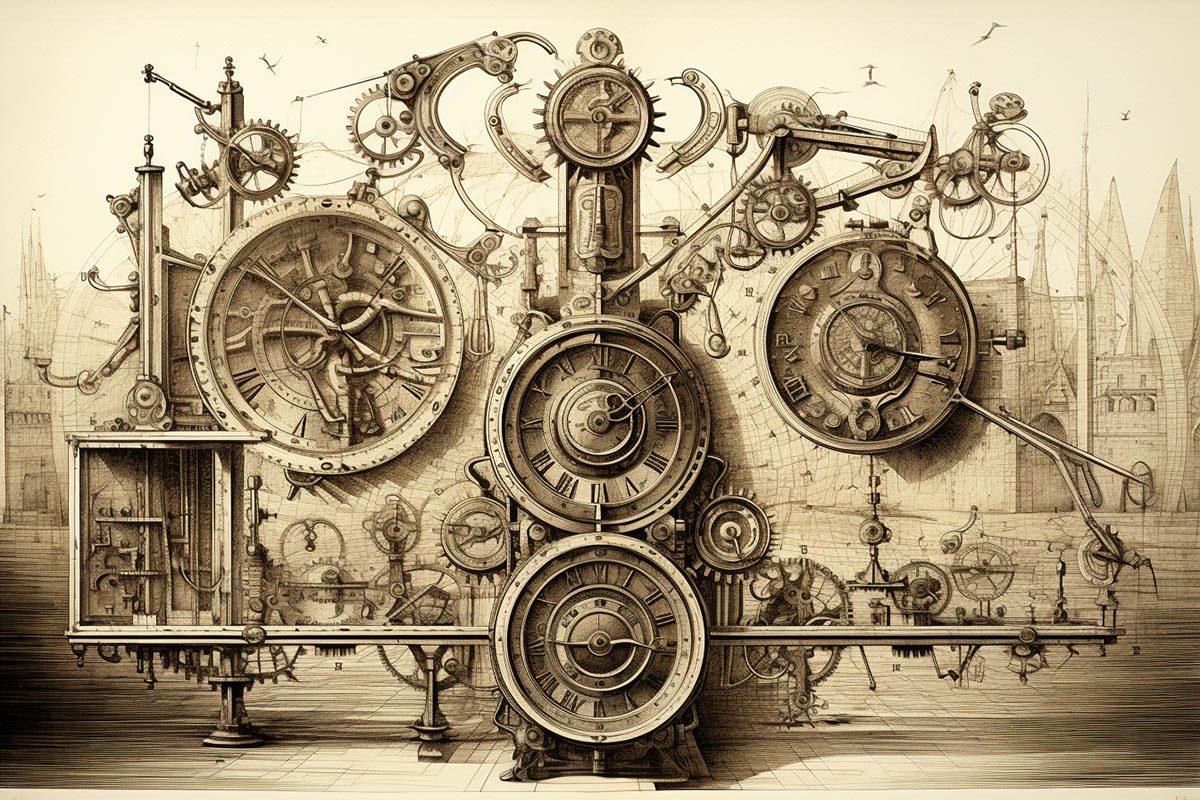
Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
— Очень любопытно, я уже мысленно встал в очередь за твоей книжкой. А какие открытия ты сделал во время работы? Что тебя поразило?
— Сложно говорить про открытия в гуманитарной науке, это всегда какие-то теоретические положения. Ну например. Мы считаем, что в СССР не было никакого ухода или что люди сами по себе валялись и умирали, но на самом деле в Советском Союзе как раз была своя собственная инфраструктура ухода. Там отлично обезболивали, отлично ухаживали и всячески помогали умирающим — есть конкретные примеры. Вопрос в том, что это имело специфическую советскую форму. Когда я говорю «советскую», то подразумеваю очень жёсткое разделение между официальной пропагандой и реальными фактами. Люди, читавшие работы по советской истории, знают, что в советской общественной жизни всегда было разделение на «официальное» и «реальное». Советская онкология в этом плане была совершенно аналогичным продуктом. С одной стороны, постоянное декларирование высокой излечимости от рака, успехов советской онкологии, эффективности профилактической модели — мол, «если рано обследоваться, всё будет хорошо» и бла-бла-бла. Но теперь мы знаем и оборотную сторону: огромное количество людей выявляли рак на поздних стадиях и быстро (в первые два года после постановки диагноза) умирали. То есть фактически советская онкология была не профилактической, а паллиативной!
Там ещё много любопытных связующих элементов. Например, в советской онкологии практиковалось абсолютное сокрытие диагноза — пациенту ни в коем случае нельзя было сообщать, что он неоперабельный или операбельный, но неизлечимый и скоро умрёт. Для этого использовалась огромная палитра всяких техник — чтобы скрывать диагноз. Но, возвращаясь к делению на официальную и неофициальную советскую реальность, — пациент прекрасно понимал, что его обманывают и что на самом деле есть правда. То есть механизм сокрытия диагноза работал обратным образом: когда мы скрываем диагноз, мы по факту его сообщаем. Советский человек прекрасно осведомлён обо всех этих техниках, он понимает, что его обманывают. А когда его обманывают и он знает, как это происходит, — ему, по сути, всё и рассказывают. Советский человек знал, что с ним происходит, его отправляли домой, оказывали помощь посредством инфраструктуры, общества Красного Креста и так далее.
— Мне кажется, такие манипуляции проделывались не только в онкологии, но и в остальных советских сферах. Когда тебе в магазине говорят «мясо будет завтра» — ты понимаешь, что, скорее всего, мяса просто нет и не будет.
— Да, конечно. Это абсолютно нормальная советская практика. Антропологами и историками это давно и хорошо описано. Про это есть книга Олега Хархордина «Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности» — она, мне кажется, самая лучшая. Он пишет про то, каким образом переплетались эти практики распознавания реальности и официоза. А Алексей Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось» пишет, что в конце 1970-х — 1980-е годы советская жизнь целиком разделилась на реальную и официальную части, причем последняя была абсолютно ритуальной. То есть то, что мы делаем и говорим, совершенно не означает, что мы в это верим. И тем более — считаем это правдой. Да, в советской онкологии работали все те же самые механизмы, но я показываю, что несмотря на это они были рабочими — они позволяли онкологии быть паллиативной и оказывать неплохую заботу, функционально очень схожую с западной хосписной помощью. А именно: сохранять иллюзию жизни, давать месседж, что жизнь — на всю оставшуюся жизнь. Чтобы человек ощущал умирание как максимально незаканчивающуюся жизнь.

Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
— Удивительно, как это напоминает современную Россию. «Иллюзия жизни» встаёт перед нами во всей красе. С одной стороны, происходит безусловное умирание, с другой — тебе всячески внушают, что жизнь не заканчивается, а боль можно как-то сгладить. Короче, паллиативное государство. Тебе так не кажется?
— Конечно, устойчивый мир всегда предпочтительнее, чем мир нестабильности и перемен. Западная хосписная идеология тоже говорит: чувак, ты живой, мы тебе предоставили всю инфраструктуру в хосписе, ты можешь тут заниматься досугом, встречаться с любимыми родственниками и потреблять. То есть ты не замечаешь умирание до последнего момента.
— Похоже, так и есть. А как называется твоя книга и когда она выйдет?
— Над названием пока работают маркетологи, но сейчас она называется Cancer Wards: Research, Treatment and Care in USSR («Раковые корпуса: исследования, лечение и уход в СССР»), с отсылкой к Солженицыну.
— А по-русски она выйдет?
— А я не знаю; я-то писал её по-английски, и сейчас моя задача — опубликовать её по-английски. Она должна выйти в Канаде, в издательстве McGuill University. Надеюсь, выйдет к концу 2024 года.

Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
Работа с горем
— В последние годы индустрия смерти стала чрезвычайно разнообразной: групповые разговоры об утрате, курсы горевания, доулы смерти… Буквально на днях я наткнулся в одном чате на милое предложение: «Как провести эти выходные? Пойдёмте с нами в горы! Мы разведём костёр, выпьем чудного какао и поговорим о смерти». Смех смехом, но как тут отличить что-то действительно полезное от обычной спекуляции на человеческом горе?
— Мне кажется, это действует не только для практики горевания, а вообще для любой индустрии. Тут главное — доверяешь ли ты человеку, который тебя зазывает. Достаточно странно, если тебе предлагают поговорить люди, которые не занимаются этой темой. Скажем, среди наших лекторов на онлайн-курсах есть Катя Печуричко, онкопсихолог с 15-летним стажем, которая закончила американскую программу и стала доулой смерти, есть Татьяна Коновалова, которая работала в детском хосписе и занимается вообще одной из самых тяжёлых задач: эмоциональной работой с родителями, которые потеряли детей. Наверное, эти люди действительно могут что-то сказать, у них есть экспертиза. Но если поговорить про смерть тебя зовет какой-то экзистенциальный психолог… ну, не знаю. Лично моё мнение: я бы, наверное, не стал слушать человека, который в реальной жизни, в профессиональном плане мало сталкивался со смертью. Даже если он работает с горем, мне бы, наверное, хотелось, чтобы он имел опыт работы, например, в хосписе, и видел, по крайней мере, умирающих людей.
А ещё у нас есть лектор Ольга Фатеева — она судмедэксперт. Не психолог, не философ, не антрополог, который может какие-то теоретические вещи «упаковывать». Это человек, который каждый день работает со смертью, — уж ей точно есть о чём сказать.
— Раз уж ты заговорил о ваших лекторах, расскажи и про сами курсы. Что это, для кого и зачем?
— Идея очень простая и практическая; она как раз отсылает нас к тому, с чего мы начинали разговор. Такое сейчас время, что все эти темы неожиданно гиперактуализировались. Мало того — они требуют определенной «пересборки» языка. Когда мы выпускали журнал «Археология русской смерти», когда я выпускал книги о похоронной индустрии, подход был такой просветительски-популяризаторский, была миссия — бороться с отторжением этой темы. Тогда мы хотели пояснить, что говорить о смерти — это нормально. Говорить о смерти полезно, потому что это не только обогащает наш язык, но и вполне конкретным образом помогает на практике, потому что, когда вы сталкиваетесь со смертью, вы уже не впадаете в оцепенение.
Но в последнее время всё настолько изменилось, что мне уже как-то некомфортно и не тянет произносить слова «археология русской смерти» — это приобрело совсем другую коннотацию и звучит даже немного издевательски. Мне также не хочется выступать с просветительских позиций и предлагать: «Давайте говорить о смерти», — потому что её стало невыносимо много и близко. Поэтому мне показалось, что очень важно пересобрать эту тему в практическом смысле. Важно понять: что конкретно сделать с этой темой, которая присутствует среди нас, здесь и сейчас? И как тут можно помочь людям продвинуться в обретении точек опоры?
— Если я правильно понимаю, речь идет о курсах психологической поддержки?
— Грубо говоря, да, это именно курсы поддержки. У нас есть просветительская часть, но это узкие вещи. Например, судмедэксперт Фатеева рассказывает, что происходит с телом при попадании в морг, пьют ли судмедэксперты спирт и воруют ли человеческие органы. Есть очень конкретные вещи — например, Мария Кокова, большой специалист по психологии горевания, читает у нас два курса: для людей, которые переживают утрату («Краткий курс самопомощи»), а ещё будет отдельный курс для специалистов по психологии горя: каким образом работу с горем можно встраивать в психологическую поддержку. Будет большой курс от Кати Печуричко и Татьяны Коноваловой по психологической поддержке умирающих, для их близких. Есть практический курс Ильи Болтунова под гениальным, я считаю, названием «Как организовать похороны и не вылететь в трубу» — о том, как максимально упростить этот процесс, понять, где вас обманывают, а где не обманывают, как сэкономить и так далее… Мне кажется, этот курс в России вообще нужно прослушивать всем — неважно, умирает кто-то или не умирает.

Иллюстрация Midjourney/Spektr. Press
Это ещё не конец
— В последние годы отношение к смерти сильно изменилось. Сперва пандемия, потом война. Причём это, так сказать, разные смерти: в пандемию это была коллективная утрата, коллективное переживание, а сейчас, на фоне войны, смерть, во-первых, тесно связана с финансовым моментом, а во-вторых, окутана ореолом таинственности, поскольку мы не знаем точного количества потерь, солдат хоронят тайно и так далее. Ты как социальный антрополог как-то анализируешь этот феномен?
— У меня сейчас нет такой возможности. Я занимаюсь советской онкологией. А быть в России у меня не получается, и я не очень понимаю, что там происходит. Возможно, я приобрел в Сети репутацию эксперта, который всё знает про смерть и может постоянно высказываться по этой теме, но на самом деле это не так. Я стараюсь развеять этот миф.
— Ну вот, а я как раз хотел спросить тебя как эксперта: по результатам всех твоих исследований понял ли ты, что такое смерть?
— Смерть — это плохо и грустно. Это всё, что я знаю. Ничего хорошего в ней нет.
— Стоит ли бояться смерти, Сергей?
— Я думаю, что стоит. Проблема в том, что те, кто умер, ничего не могут рассказать нам об этом. Один этот факт уже наводит на неприятные размышления и немного пугает — во всяком случае меня. Если бы мы хоть что-то знали о том, что там происходит, тогда можно было бы слегка расслабиться. А так — это печальная вещь. Я видел много смертей — и в хосписе, и в больницах, ещё больше читал и слышал свидетельств об этом, и никогда это событие не было приятным. В 99% случаев смерть будет не такой, как вы её себе представляете, а гораздо хуже.
— Твои курсы учат людей избавляться от страха смерти?
— Да нет, тут просто идёт речь о том, что в момент, когда человек может максимально осложнить себе жизнь, этого возможно избежать. Не то чтобы ты смог принять все аспекты смерти и стать счастливым, нет — просто можно это всё банально упростить: эмоционально, организационно, финансово, как угодно. Я в этом смысле совсем не просветитель — как есть вот на Западе движение Death Positive, типа смерть надо сделать позитивной, в ней ничего страшного нет… Да ни хрена! Есть куча неприятных моментов, их гораздо больше, чем приятных. Поэтому я совершенно не говорю, что «мы здесь знаем, как нужно». Просто у нас есть специалисты, которые знают, какие на этом пути могут возникать проблемы и какие у них могут быть решения. Кто хочет услышать — тот услышит.





