Феминизм в изгнании. Юля Варшавская вместе с экспертами разбирает миф о советском равенстве
 Иллюстрация Екатерина Балеевская / Spektr. Press
Иллюстрация Екатерина Балеевская / Spektr. Press
Недавно в цикле колонок о женской истории эмиграции мы рассказали об удивительной истории ленинградских феминисток, которые в 1979 году начали выпускать в самиздате фем-журналы «Женщина и Россия» и «Мария», где критиковали советскую власть и рассказывали о реальном положении женщин в СССР. Ими моментально заинтересовались в КГБ, и уже к 1981 году женщины были изгнаны из страны. За границей они поначалу продолжили свою деятельность, пытаясь издавать журналы и рассказывать о положении советских женщин западному сообществу. Активистки движения Татьяна Мамонова, Наталия Малаховская, Юлия Вознесенская и Татьяна Горичева даже оказались на обложке американского журнала Ms. Но вскоре их пути разошлись, а их история была забыта. Вспомнили о ней только в последние годы благодаря усилиям современных гендерных исследовательниц.
Юля Варшавская поговорила с с докторанткой Центрально-Европейского университета Александрой Талавер и докторанткой Центра исторических исследований Sciences Po (Париж) Анной Сидоревич. Эти исследовательницы не только подробно изучили и описали историю ленинградского клуба, но и выпустили книгу «Феминистский самиздат: 40 лет спустя». Александра и Анна рассказали «Спектру», как посреди тоталитарного государства могло возникнуть такое женское сообщество, почему советские феминистки обращались к религии и что помешало им поддерживать друг друга в эмиграции.
Рекомендация от редакции: интервью будет читать гораздо интереснее, если вы прочитаете наши предыдущие колонки на эту тему: здесь и здесь.
Почему эта фантастическая история, которая в начале 1980-х так выстрелила, когда ленинградские феминистки оказались за границей, потом оказалась совершенно забыта, как на Западе, так и в СССР?
Александра Талавер: Я бы не сказала, что она была совсем забыта. Так или иначе, история об альманахах «Женщина и Россия» и «Мария» существовала в памяти — их изучали гендерные исследовательницы, а Алла Митрофанова, основательница Кибер-фемин-клуба создала про них страницу в Википедии. Страница, правда, потом была удалена, потому что не соответствовала каким-то правилам, но сейчас она снова есть. Более того, Наталья Малаховская, приезжала в Петербург в 1990-е годы, ее работы издавались, она проводила лекции и чтения.
Другой вопрос в том, что гендерные исследования никогда не получали нормальной институциональной поддержки в России. То есть у нас просто не было поля, в котором мы бы могли все прийти и свободно это обсудить. У нас, например, в университете был только подпольный семинар в столовой — вот в таком режиме собиралось феминистское сообщество, по случайным островкам.
Анна Сидоревич: Я согласна с Сашей. И еще мне не кажется, что у нас есть проблема, связанная с отсутствием преемственности между условными поколениями феминисток. Вот были феминистки 90-х и ранних «нулевых», они занимались практически ориентированной деятельностью, создавали НКО. Затем было поколение «активизма в ЖЖ», которое вообще прошло мимо меня. И, наконец, мое поколение — где-то середины «десятых», которое условно можно связать с появлением гендерной повестки в медиа, с появлением журнала Wonderzine. Но между нами как будто нет никакой цепочки, через которую можно было передавать информацию. Получается, что мы, поколение 2010-х, как будто заново открывали для себя историю женского активизма в России.
Я сама узнала об этой истории около 10 лет назад, когда искала тему для исследования. Я все время задавала себе вопрос: неужели после Коллонтай в женском движении в СССР ничего не происходило? Я не могла поверить, чтобы на протяжении десятилетий все сидели сложа руки. Я начала искать в интернете какую-то информацию, и совершенно случайно узнала, что, оказывается, был такой самиздат, и было такое движение. Сегодня можно ввести их имена в поиске и прочитать много статей, а тогда надо было прямо добывать информацию.
Другая причина — особенность самого движения в его историческом контексте. Важно учитывать маргинальность этого феномена: в Советском Союзе они были вне закона, но и в среде ленинградского андеграунда они были скорее исключительным, маргинальным явлением. Как про них писали француженки, dissidentes de la dissidence (диссидентки диссидентства). Кроме того, их было немного, это тоже важно. И они недолго просуществовали из-за начавшихся репрессий.
Помимо этого, можно сказать, что они получили гораздо больше внимания в этот короткий период за границей, чем внутри СССР. Мне в интервью немецкая феминистка и журналистка Барбара Розенберг рассказывала, что на фоне холодной войны, железного занавеса это была такая сенсация, за которую можно было ухватиться. Для западных журналистов это был эксклюзив. Феминистки из СССР попали на обложку американского журнала Ms., а потом поехали в турне по США. Но в конечном счете, у них не то, чтобы получилось интегрироваться в западный контекст второй волны феминизма.
Когда читаешь историю этих женщин, она выглядит как потрясающий захватывающий то ли шпионский детектив, то ли фем-триллер. Но их тексты, скажу честно, из сегодняшнего дня кажутся мне чем-то очень локальным, что могло появиться только в СССР как ответ существующему там строю. В частности, очень сбивает с толку вся религиозная составляющая, которая кажется нетипичной для феминизма того времени.
Анна: Мне кажется, что не существует и не существовало в истории какого-то одного универсального, правильного феминизма. Есть разные феминизмы, потому что для разных женщин в разных контекстах актуальны разные вопросы и способы их решения, и они могут использовать разный инструментарий для достижения своих целей. В этом смысле, я думаю, что тексты ленинградских активисток надо рассматривать, понимая контекст, в котором они существовали. На мой взгляд, они просто использовали те инструменты, которые у них были, а было у них совсем не много. У них был инструмент — самиздат, они владели этой техникой. У них был инструмент — религия как источник духовного освобождения в авторитарном обществе. У них был еще один инструмент — какие-то знания о второй волне феминизма, которые проникли через железный занавес в СССР.
Думаю, их религиозность нельзя рассматривать и вне контекста отношения к церкви в среде диссидентов в СССР -- для них вера была своего рода оппозицией в отношении режима. А если мы говорим о политическом аспекте? Кажется, что их критика советской власти, ГУЛАГа была чуть ли не важнее, чем собственно «женский вопрос»? И поэтому их преследовали КГБ?
Анна: Безусловно, они указывали на нерешенность женского вопроса в Советском Союзе прямо в разгар Десятилетия женщины ООН. Представьте, что тогда на международном уровне от лица СССР Валентина Терешкова говорит одно, а тут же выдворенная из страны феминистка Наталья Малаховская на неправительственном форуме в Копенгагене говорит совсем другое. Кроме того, Ленинградские феминистки передавали материалы на Запад, и люди могли прочесть, как на самом деле живут советские женщины. К тому же это конец «разрядки», начало войны в Афганистане — не самое лучшее время для таких скандалов. По сути, на международном уровне они фактически подрывали официальный советский дискурс в контексте Десятилетия женщины ООН. Особенно опасной была критика условий, в которых в СССР жили женщины и дети, потому что это два важных столпа советской риторики.
Александра: Это точно была одна из самых болезненных точек для советского режима. Важно понимать, что Советский Союз в принципе, в тот момент терял свою репутацию даже среди международного левого движения. Проблемы начались еще после Пражской весны, но с вводом войск в Афганистан мы видим утрату влияния Советского Союза, например, в Международной женской демократической федерации, где им раньше удавалось сохранять репутацию прогрессивной страны.
Вообще война — очень важный сюжет. В частности, одну из создательниц журнала Наталью Лазареву арестовали как раз потому, что КГБ обнаружили письмо матерей против ввода войск в Афганистан. Ленинградские феминистки нашли эту болевую точку советского авторитарного государства — это материнская фигура, выступающая против войны. Через много лет, кстати, Комитет солдатских матерей снова возьмет на себя эту роль.
Интересно, что за много десятилетий до появления «Марии», Клара Цеткин в 1915 году попала в тюрьму за свои выступления против Первой мировой войны, а сегодня российских феминисток чаще всего преследуют именно за антивоенную позицию. Так что в каком-то смысле в среде феминисток есть такая преемственность. Но я хочу поговорить с вами про миф о советском равенстве, против которого и восстали наши героини. Почему этот миф до сих пор с нами, жив? Почему он такой крепкий, и как, на ваш взгляд, он влияет на то, что с вами сегодня происходит?
Александра: Во-первых, полное равенство в СССР — это, конечно миф. Но, мне кажется, это миф, который главным образом распространялся советскими же мужчинами — они почувствовали, что утрачивают понятные им механизмы доминирования. При том, что они в целом имели более высокую зарплату, были намного лучше представлены в советском правительстве и в партийных органах. Но женщины в подавляющем большинстве работали и не были зависимыми от партнера, поэтому классическая буржуазная модель маскулинности, где мужчина зарабатывает большие деньги, и у него на содержании красивая жена и ребенок, была возможна в Советском Союзе только для определенных номенклатурных слоев. А для всех остальных было в некотором смысле равенство.
Наверное, советские мужчины были возмущены тем, что жены могли с ними разводиться, выбирать, в силу своей экономической независимости, более интересных партнеров. В исследовании Темкиной и Здравомысловой горожанки из среднего класса, родившиеся между 1945 и 1965 годами, например, практиковали не только репродуктивный, нацеленный на рождение детей, сценарий сексуальной жизни, но и «дружеский», то есть секс без обязательств.
В советской прессе еще в конце 1960-х писали о так называемом кризисе маскулинности: мужчин и так мало, да еще они пьют, дерутся и умирают. Так что, я думаю, источником мифа о советском равенстве были те самые растерянные мужчины, у которых просто от того, что рядом с ними появились более уверенные в себе женщины, началась паника, что мужчины будут угнетены и им слова сказать будет нельзя. И они встали на удобную позицию: у вас уже есть все права, больше бороться не за что.
Второй важный фактор: расхождение между тем, что ритуально декларировали, как мантру, и тем, как было в жизни. Юристки, которые на уровне партии занимались лоббированием женских интересов в СССР, четко проводили разницу между равенством на бумаге (например, был закон против гендерной дискриминации) и реальным равенством, о котором, в частности, писали в самиздате.
Анна: Именно поэтому советские феминистки получили такую жесткую реакцию со стороны властей: они эмоционально, основываясь на своем собственном опыте, указали на несоответствие между декларируемыми лозунгами и реальной жизнью женщин. При этом в 1970-е и начале 80-х критика положения женщины в публичном дискурсе допускалась. Например, если мы говорим про двойную нагрузку. Это было признано официально, и Брежнев лично говорил, что «мы еще не до конца решили проблему двойной нагрузки». И все признавали, что советские женщины несут эту ношу, поэтому мужчины их так ценят, чтят, любят, — особенно в честь 8 марта.
Но феминистки зашли слишком далеко, вплоть до положения квир-женщин, до женщин в тюрьме, бездомных женщин — то есть, они начали говорить о тех женщинах, которые не существовали в официальном советском публичном поле. Но если мы говорим о мифе, то я хочу подчеркнуть, что нельзя отрицать радикально-прогрессивного характера законодательства в отношении женщин в Советском Союзе и тех возможностей, которые — со всеми понятными ограничениями — существовали для советских женщин. И женщины на Западе в те времена о некоторых таких правах только мечтали и за них боролись в 1970-е.

Иллюстрация Екатерина Балеевская / Spektr. Press
Мне кажется, что главная проблема с этим мифом в том, что его сегодня используют тем же способом, о котором сказала Александра: если декларируется, что все права уже есть, за что тогда бороться? Мы можем сейчас объяснить нашим читателям, почему этот тезис не работает? Почему нельзя думать, что 100 лет назад мы добились равенства, а сегодня нам нечего хотеть, потому что равенство у нас уже есть?
Александра: Достигнутое равенство — моя любимая тема. Во-первых, права не дают, права всегда берут. И если за них перестать бороться, права быстро начинают сокращаться. Это то, что творится, например, с правом на аборт в России сегодня: во многих регионах вводятся ограничения, штрафы, сокращаются медикаментозные возможности, практикуется склонение к деторождению и так далее. Мы видим, что если нет боевого феминистского оплота, который хранит те крошечные завоевания, которых добились женщины, то территорию начинают быстро захватывать. Используя именно этот аргумент: у вас уже все есть, у нас вообще женская власть, и мужику некуда ступить в этом государстве. Потому что, согласно их логике, где у женщины прибыло, там у цисгендерных белых мужчин средних лет с большими деньгами убыло. Им некомфортно, надо все вернуть на свои места. Хотя, по факту, чем больше прав у уязвимых групп — тем больше прав становится у всех.
Во-вторых, я не соглашусь, что в современном российском дискурсе апеллируют к советскому опыту. Те гендерные нормы, которые активно продвигает российская власть в своих публичных заявлениях, не соответствуют советскому дискурсу вокруг роли женщины. Они гораздо более консервативны, они прямо отсылают к традициям многодетных семей с мужчиной-кормильцем и женщиной-домохозяйкой. И такие образы в советское время не транслировались ни на уровне женских журналов, ни в политике.
Анна: Мне кажется, миф о том, что «у вас уже есть все права» — это автоматическое воспроизведение какого-то конструкта, бессмысленная фигура речи, которая передается из уст в уста. Я не знаю, что значит эта фраза, какие именно права подразумеваются. Кажется, что в этот момент они просто хотят сказать: «Молчи, женщина, твой день 8 марта».
И есть еще одна важная вещь: мы не можем говорить о сегодняшних представлениях о месте женщины в России, обращая внимание только на опыт СССР. Мне кажется, очень важно обращать внимание на опыт 1990-х, на те радикальные трансформации, которые произошли с маскулинностью и феминностью после «перестройки». То, что произошло с женщинами в 1990-е, к сожалению, пока мало изучено. Но это время показало важность даже «равноправия на бумаге», которое было в СССР. Потому что когда это равноправие на бумаге ушло, пришла объективация женщин, рост женской бедности, рост насилия. Образ женщины после перестройки полностью изменился.
Говоря о разных феминизмах в разных режимах. Наталья Малаховская в одной из своих статей писала, что жизнь эмиграции заставила ее изменить многие взгляды, что перед ней открылся совершенно новый мир. И очевидно, что эта трансформация должна была произойти с человеком, который вырвался из-за железного занавеса. Какие перемены происходили с нашими героинями, когда они переехали за границу?
Анна: Даже сейчас мы переоцениваем многие вещи в эмиграции, что уж говорить об отъезде из СССР в 1980-е. Нужно понимать, что это было совсем другое время: не было интернета, такой активной глобальной циркуляции идей, настолько легкого доступа к разного рода знаниям. До эмиграции они говорили о западном феминизме как говорят о некоем собирательном образе, который у них существовал на основе отрывочных данных. При этом в реальности на Западе были тогда очень разные феминизмы, и в каждой стране было множество направлений. Поэтому, когда они противопоставляли в своих текстах «западный феминизм» тому, чем они занимались, под этим подразумевалось очень условное явление. Они чаще всего понимали под этим левый секулярный (светский) феминизм. И он, на их взгляд, не работал.
А за границей, когда они получили доступ ко всей информации, они пошли по очень разным дорожкам. Сначала они рассказывали про СССР, но интерес как будто быстро закончился и каждой из них нужно было что-то делать дальше. Понятно, что они все ощущали потерянность, одиночество, многие испытывали трудности с языком и интеграцией.
Татьяна Горичева, например, ушла от фем-повестки к другим темам, но не изменила своего мнения о том, что в основе освобождения женщины лежит именно духовный путь.
На других контекст «западного феминизма» оказал большее влияние. Татьяна Мамонова, например, никогда себя ему не противопоставляла, но какие-то изменения в ее взглядах все-таки произошли, что повлияло на ее приход к эко-феминизму (в США Мамонова издавала журнал Woman and Earth). В какой-то степени она успешнее других заговорила языком более интернационального и более западного феминизма, возможно, потому что раньше начала его использовать — еще в СССР.
Что касается Малаховской, она открыла для себя целый ряд западных теоретических работ, написанных феминистками и, в частности, немецкими феминистками. В то время на Западе было такое течение в феминистской теологии — движение Богини, ее это очень заинтересовало. В интервью середины 1990-х, на вопрос «Как ты относишься к западному феминизму», она отвечает: «Там их столько, что…» — и признает, что, если бы она не читала эти книги, она не написала бы ничего про русские сказки. Таким образом она пришла к изучению Бабы-Яги, защитила диссертацию и преподавала в университете Зальцбурга. В эмиграции Малаховская отошла от христианства, и в том же интервью в она объясняла свое участие в «Марии» тем, что в СССР Бог воспринимался как форма свободы.
Про изменение отношения феминисток к религии нужно сказать вот что: в СССР вера была для них источником духовной свободы, церковь — пространством свободы внутри авторитарного государства. А когда они приехали на Запад, они попали в контекст, где движение феминисток, с которым они взаимодействовали, в большинстве своем было левое и секулярное. Контекст совсем другой. Татьяна Горичева потом писала, что на Западе путь к Богу — это путь конформиста, а в СССР путь Богу — это путь сопротивления.
Так что они за границей оказались в перевернутой реальности. Одна из участниц клуба «Мария» Алла Сарибан писала Малаховской: мол, ты знаешь, что наши любимые христиане против социальной помощи женщинам, имеющим внебрачных детей, а наши пособия — «результат деятельности социалистов», а «если бы были у власти „христиане“ — так нас бы вообще выгнали из ФРГ». И они учились жить в этом мире шиворот-навыворот, где приходилось пересматривать свои старые взгляды.
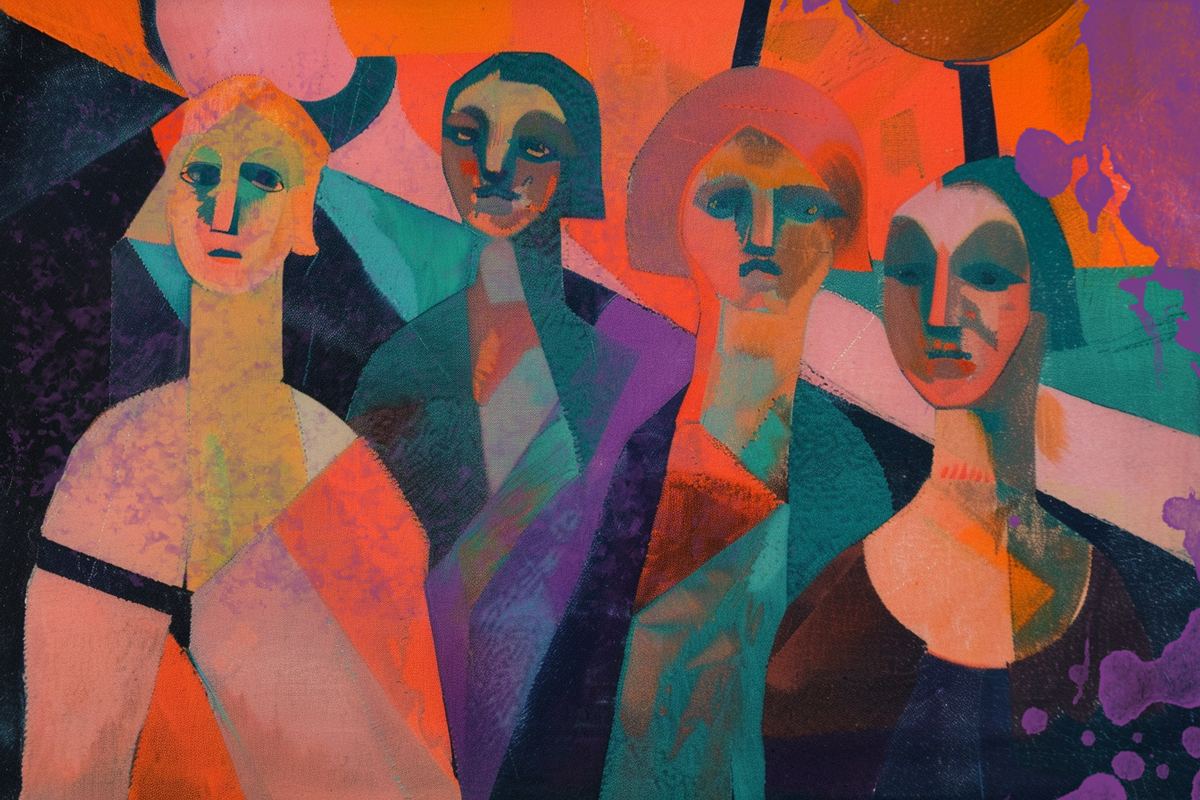
Иллюстрация Екатерина Балеевская / Spektr. Press
Вы упомянули Аллу Сарибан — ее дневники первых лет эмиграции рисуют очень тяжелый быт, ей вообще приходилось работать уборщицей в Вене. Это не белая эмиграция, которая могла все-таки вывезти за границу какие-то бабушкины бриллианты, наши феминистки приехали на Запад с пустыми руками. Удалось ли им ассимилироваться, найти себя?
Анна: У них были немного разные, скажем так, условия. Для Горичевой интеграция возможно, прошла самым легким образом, потому что она оказалась за границей, когда к власти в США пришел Рональд Рейган, а в целом в западных странах стало сильным движение так называемых Новых правых. Другими словами, у религиозных институтов и движений стало больше власти и возможностей. И она, в какой-то степени, хорошо вписалась в этот контекст. Она пошла учиться богословию, сначала в Германии, потом в Париже. При этом в Германии католическая церковь теряла в популярности и авторитете, а Горичева приехала туда и говорит: вы здесь по собственной воле отказываетесь в Бога верить, а мы в тюрьме за это готовы сидеть. Конечно, ее история очень понравилась местным религиозным деятелям, ее книга «Опасно говорить о Боге» пользовалась популярностью. С этими идеями она ездила по всему миру, и жила на гонорары с выступлений и публикаций. В общем, она оказалась в нужном месте в нужное время, что тоже ее заслуга, безусловно.
Наталья Малаховская какое-то время преподавала русский язык в школе, потом работала в прачечной. Отсутствие языка, конечно, им не помогало, и некоторые поначалу были в тяжелом психологическом состоянии из-за кардинальной перемены, трудностей, неустроенности, а для кого-то — и ностальгии по родине.. По воспоминаниям Малаховской, Софья Соколова, которая после изгнания жила в Париже, была в депрессивном состоянии из-за тоски по родине. Тяжелое состояние было и у самой Малаховской, и у Аллы Сарибан. Первое время Сарибан работала уборщицей, потом устроилась в университет — она имела кандидатскую степень.
При этом какое-то время они продолжали выпускать «Марию»?
Да, и некоторую часть своих пособий и тяжело заработанных первых денег они вкладывали в публикацию журнала. Еще важно сказать, что они пытались помогать тем женщинам, которые остались в СССР, женщинам-политзаключенным. Но «Мария» очень быстро завершилась. Про это есть хороший момент в переписке Аллы Сарибан и Татьяны Горичевой, когда последняя говорит, что «Мария» стоит стопкой, высится до потолка в ее маленькой квартире в Париже, и ее некуда девать, никому журналы не нужны. Западным феминисткам «Мария» была не нужна, потому что она была издана на русском языке и отличалась идеологически, а среди эмигрировавших диссидентов большой популярностью она тоже не пользовалась.
Я наблюдаю за тем, как сегодня женщины, объединенные одними ценностями, сбиваются за границей в стайки, делают медиа, поддерживают друг друга. Это очень помогает в эмиграции. Почему в те годы у уехавших феминисток не сложилось некоего комьюнити русскоговорящих женщин за границей?
Анна: Во-первых, с самого начала там был идеологический конфликт между Мамоновой и другими участницами. И в эмиграции он еще больше ужесточился. Удивительный факт: на фотографии, которая сделана для обложки журнала Ms., они на самом деле не стоят вместе. Фотографу пришлось снять отдельно Мамонову и отдельно трех других женщин, потому что Татьяна наотрез отказалась фотографироваться с ними вместе.
Когда они пытались издавать журнал «Мария» за границей, они много спорили, какие тексты туда помещать. Вознесенская настаивала, например, что надо публиковать текст про Польшу и прославление новомучеников русской православной церковью за границей. Малаховская и Горичева были против. В конечном счете произошел раскол и третий номер они публиковали уже без участия Вознесенской. Почему так происходило? Об этом есть важный момент в письмах Аллы Сарибан, где она пытается осмыслить, почему клуб «Мария» распался. В СССР все эти сильные, разные женщины с очень разными взглядами и фокусом на разных проблемах собрались вместе, чтобы противопоставить себя системе. После эмиграции общий враг остался за железным занавесом, то, что их объединяло, ушло на задний план, а на первый вышли разногласия.
И феминизм не стал для них этим скрепляющим фактором?
Анна: Нельзя сказать, наверное, что все они были изначально очень ангажированными феминистками, за исключением Татьяны Мамоновой. И мотивация участвовать в движении у всех была разная. Некоторые попали туда довольно случайно. Другие вообще услышали слово «феминизм» только от Мамоновой в 1979 году, а в 1980 их уже изгнали. Некоторым просто в какой-то момент перестал быть интересен феминизм, потому что на первый план вышли вопросы собственной интеграции в новой стране. Тем более, даже в СССР уже через несколько лет после их изгнания те табуированные темы, на которые они писали в альманахе и журнале «Мария», перестали быть запретными, потому что началась «перестройка». Они «не дождались» совсем немного.






