За рубеж и за станок. Юля Варшавская о работающих женщинах первой волны эмиграции
 Иллюстрация Екатерина Балеевская/SpektrPress
Иллюстрация Екатерина Балеевская/SpektrPress
«Мыть чужие полы? Вышивать крестиками? Делать шляпы? Сидеть при уборных в ночных ресторанах? Или идти на сверхурочные курсы медсестер и, окончив их (иностранки с волчьими паспортами), иметь право наняться госпитальной прислугой в городских больницах Лаэнека и ВальЛе-Граса и выносить подкладные судна?».
Нет, это не мои мысли о собственной дальнейшей карьере в Европе (хотя звучит вполне правдоподобно). Так представляла себе возможности женщин писательница Нина Берберова в 20-е годы в Париже. Во-многом она была права: большинство ее коллег по эмиграции уезжали из России, как она говорила, «белоручками»: женами, спутницами, родственницами обеспеченных и статусных мужчин. Но, как я уже писала в прошлой колонке про Тэффи, статус этот быстро терялся, как и деньги. По словам историка Ольги Барковой, «оказавшись на чужбине, россиянки менее эмоционально воспринимали изменение своего социального статуса, что определялось спецификой ценностных и гендерных приоритетов. Стремление к самореализации объяснялось заботой о своих семьях и детях. Женщины легче преодолевали языковой барьер, были более коммуникабельны, терпимы, предприимчивы и успешны».
Так что, пока сотни мужских глаз грустно устремились в потолок (или в бутылку), женщины, которым надо было кормить семью и осваиваться на новом месте, были вынуждены выходить на работу.
(Где-то мы это уже слышали).
Сегодня, когда мы думаем о женщинах «белой эмиграции», мы скорее всего представляем себе писательниц, журналисток, поэтесс и мемуаристок, которые печатались в бесконечных русских изданиях, создавали и описывали тот самый «русский мир в изгнании»: это как справедливо (они были, они создавали и описывали), так и не справедливо (потому что людям пишущим и говорящим вечно достается больше внимания, впрочем, как и хейта). Поэтому им мы посвятим отдельный текст, а сейчас поговорим о тех, кто не родился Цветаевой и Гиппиус, но зато составляет реальный портрет эмигранток той эпохи.
Важно понимать контекст, в котором оказались эти женщины: после Первой мировой войны уровень вовлеченности женщин в экономику в Европе вырос в разы. Во время войны 1914–1918 годов на рынок труда вошло больше женщин, чем когда-либо прежде. Они стали не только конторскими работниками или продавщицами, но и токарями, штамповщицами, крановщицами. В Великобритании к концу 1918 года женщины составляли до 90% рабочей силы на производстве боеприпасов, а в Германии к 1917 году число женщин, занятых в металлургии, увеличилось на 319%. Во Франции — почти на 700%. За войной последовал некоторый откат — многие женщины вернулись «домой». Но движение суфражисток уже набрало обороты — во многих странах женщины получили избирательные права, уже учрежден праздник 8 марта, и объективные экономические нужды только помогали эмансипации. И именно в это время эмигрантки из России пытались найти себя в новых странах.

Иллюстрация Екатерина Балеевская/SpektrPress
При этом большинство «белых эмигранток» того времени не то, что не работали никогда, они даже не знали, как вести хозяйство. «Я приблизительно знала, во что обходятся драгоценности и платья, но совершенно не представляла, сколько могут стоить хлеб, мясо, молоко», — писала княгиня Мария Павловна в ХХ году. Но уже во время Второй мировой войны им пришлось не только разобраться в ценах на молоко — парижские полы мылись руками вчерашних звезд лучших гостиных: от Тэффи до Цветаевой.
Они были прекрасно воспитаны и образованы, а еще с детства обучались традиционному для женщин ручному труду — вышиванию, шитью, всяческому рукоделию. И конечно, многие были чертовски красивы (единственный стереотип о русских женщинах, который я готова одобрить). Этим объясняется большой успех эмигранток из России в фэшн-индустрии: от манекенщиц до дизайнеров одежды и владелиц модных домов мирового уровня. Только во Франции в 1920−30-х годах представительницами российской аристократии было создано более двадцати русских Домов моды. Один из них, «Китмир», кстати, принадлежал той самой княгине Марии Павловне, которая в начале этого текста жаловалась, что не знает, сколько стоит молоко. Зато знание цен на платья сослужило ей хорошую службу: в 1925 году она стала победительницей Всемирной выставки современного декоративного и прикладного искусства, получив золотую медаль.
В Великобритании свой Дом «Поль Каре» открыла Ольга Эджертон, которая вообще начала шить только после 50 лет (что в очередной раз доказывает, что женской карьере все возрасты покорны).
Из прекрасного: в 20-е годы во Франции проводился конкурс красоты «Мисс Россия», но первые два года он назывался по-другому — «Королева русской колонии».
Интересно, что королевы русских колоний добивались успеха на модном поприще не только в Париже, но в США — оттуда у меня есть сразу две любимые истории, которые я обязательно расскажу подробнее в следующих колонках. Первая — про Варвару Каринскую, выдающуюся художницу по костюмам, которая в 1924 году при поддержке Луначарского выехала из СССР под предлогом выставки работ ее учеников в Европе. Сначала Каринская пожила в разных европейских городах, в том числе, и в Париже, а в 1939 году переехала с семьей в США, и вот там случился невероятный взлет ее карьеры: следующие 30 лет она работала с балетом хореографа Джорджа Баланчина, совершила революцию в представлениях о балетной пачке, работала с Сальвадором Дали, Марком Шагалом и другими художниками, и в итоге получила «Оскар» за дизайн костюмов к фильму «Жанна д’Арк».
Вторая феерическая карьера в мире дизайна в США случилась у эмигрантки из Киева Валентины Саниной-Шлее. О ее жизни до эмиграции известно мало, в основном, из мемуаров Александра Вертинского, которого она называла «Вертишей». Известно, что она была невысокого ранга актрисой в Харькове, а вскоре после революции вышла замуж за предпринимателя Георгия Шлее, с которым и уехала за границу. Там они в 1928 году открыли один из самых дорогих модных домов в США, который так и назывался — Valentina. Именно Санина-Шлее создала образ Грете Гарбо и одевала половину Голливуда. Работала и дружила с великими, построила успешный бизнес. А если бы не революция, может, так бы и играла в харьковском театре вторые роли.
Как там нам коучи в инстаграмах говорят? «Надо видеть во всем возможности, а не препятствия»
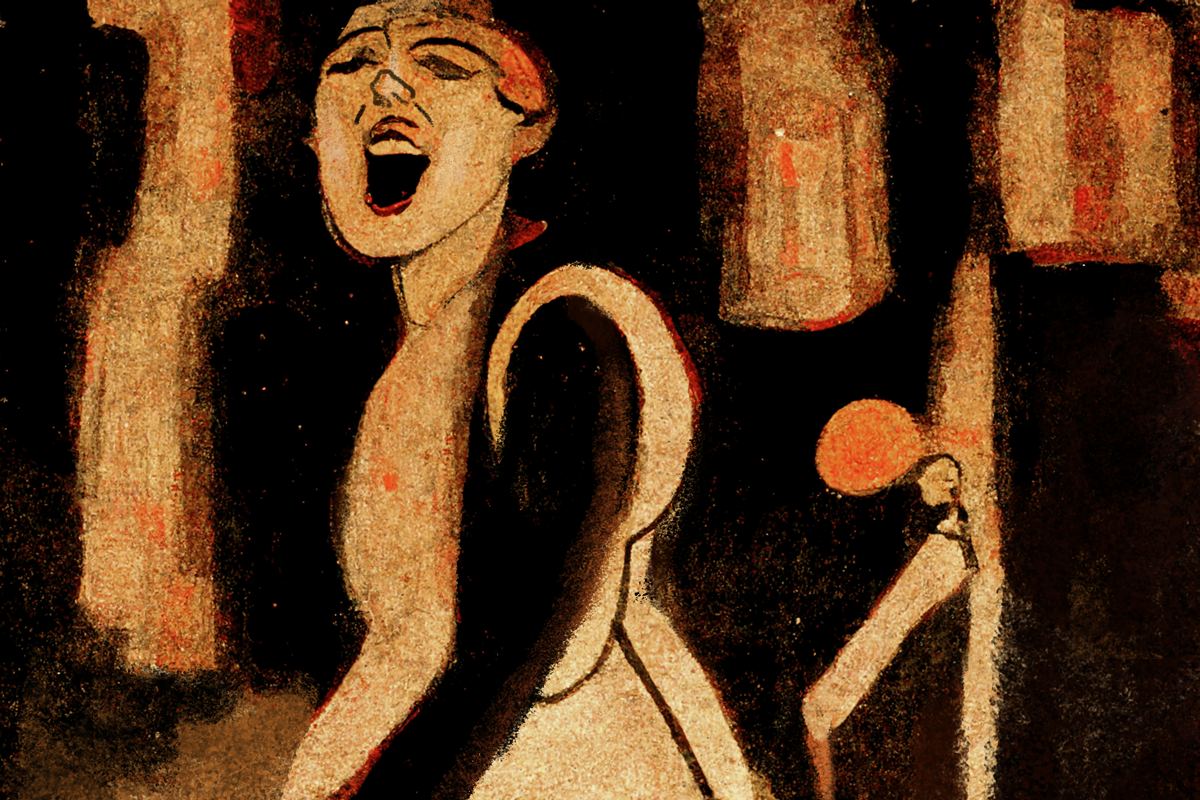
Иллюстрация Екатерина Балеевская/SpektrPress
Но, конечно, делать выводы о судьбе женщин в эмиграции той эпохи, исходя из таких кейсов, как Каринская и Санина-Шлее, — все равно, что судить о моих буднях в Латвии по тому, как Рената Литвинова живет в Париже. Успех женщин за границей тогда (да и во все времена) — ошибка выжившего, а не средняя температура по палате. И даже если мы говорим про модную индустрию, большинство эмигранток делали там бытовые, ремесленные вещи, работали швеями, портнихами или модистками.
Многим женщинам приходилось отказываться от своего призвания ради стабильного заработка. И если, с одной стороны, рядом с хореографом Джорджем Баланчиным работала Варвара Каринская, то, с другой, его администратором в 1960-е трудилась кузина Набокова — Софья, которая вообще-то до эмиграции была очень талантливой скрипачкой, выпускницей Петербургской консерватории. Но в итоге Софья все-таки нашла свой творческий потенциал в кулинарии, собрав коллекцию старинных рецептов русской кухни, по которым кормила тогдашнюю эмигрантскую тусовку. И есть даже книга Линн Виссон «200 рецептов русского зарубежья», которые были записаны со слов самой Софьи и которые я совершенно серьезно планирую изучить для своих будущих латвийских ужинов, о которых все знают, что живой и голодный оттуда еще никто не выходил.
Готовили эмигрантки и за пределами собственных кухонь: женщины работали в ресторанах, а если повезет, даже владели ими. Например, Нина Кривошеина стала владелицей ресторана «Самарканд» в Париже. Начинала, как сегодня говорят, с нуля: «Мы вселились в смрадную комнату над этим бывшим кафе, небольшой зал разукрасили цветными платками, на столики поставили лампы в оранжевых абажурах; появилось пианино, кто-то порекомендовал двух милых юных подавальщиц, уже знавших толк в ресторанном деле». Она вспоминает, что ее опыт не был уникальным: «За ресторанной стойкой оказалась тогда не я одна, но и многие женщины из эмиграции». В этих же ресторанах русские женщины могли петь и выступать.
Профессиональные возможности для эмигранток того времени, конечно, определялись возможностями для женщин в целом. И они были весьма ограничены. Поэтому у нас так много красивых историй про литературу, творчество и моду, и так ничтожно мало — про науку или большой бизнес. Хотя, как отмечает историк Ольга Баркова, были примеры успешной женской карьеры в медицине: Надежда Добровольская-Завадская стала первой женщиной из России, возглавившей кафедру хирургии во Франции, и проводила уникальные исследования в области онкологии, а иммунолог Антонина Гелен (в девичестве Щедрина) получила в 1945 году премию Французской Медицинской академии и заложила основы одного из методов современной химиотерапии.
Из сегодняшнего дня работа портнихой в Доме моды или медсестрой в парижском госпитале может не выглядеть подвигом: большая часть женщин вокруг меня переживает, что из топ-менеджеров они в новых странах превратились просто в менеджеров. Но в 20−30-х годах прошлого века выход на работу и обретение финансовой независимости был подвигом — всеобщим женским подвигом, независимо от страны рождения. Не будь этого подвига, мы до сих пор бы сидели на кухнях. А для русских эмигранток это было достижение, умноженное на миллион. И я всегда призываю этот подвиг ценить и помнить. И свои собственные сегодня тоже не обесценивать — мало ли, про кого будут писать колонки через 100 лет.






