 Лев Рубинштейн. Фото Stanislav Lvovsky по лицензии Flickr
Лев Рубинштейн. Фото Stanislav Lvovsky по лицензии Flickr
Российский поэт и публицист Лев Семенович Рубинштейн — человек-легенда. Родился и живет в Москве. В конце 1960-х начал заниматься литературой. В середине 1970-х вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым и другими стал у руля московского концептуализма. В то время советская идеология настолько укореняется в искусстве и в СМИ, что Слово перестает быть Словом — оно изначально лживо. Идеи и лозунги заменяют погоду, продукты, эмоции и чувства. Московские концептуалисты воспользовались этим процессом, чтобы создать собственную вселенную, в которой нет автора, а любая идея или предмет подвергаются деконструкции, разбираются на составные части, доводятся до абсурда, становясь чистой концепцией, с которой можно делать все, что угодно — это и есть искусство. «Спектр» побеседовал со Львом Рубинштейном о старых и новых концепциях страха, войны, эмиграции и других симптомах нашей жизни.
Встречи и поминки
— Сейчас многие люди из вашего круга уехали из России. Почему вы остались?
— Семейные обстоятельства. Но я вообще-то и не хочу. Мне кажется, что мне надо находиться здесь. В своем доме. Я понимаю, что все очень зыбко, все неопределенно, но я состою в регулярной переписке с друзьями и знакомыми, которые не здесь. Я тоскую, и они тоскуют, все тоскуют. А где тосковать лучше — я не знаю.
— А вот это «есть упоение в бою» — оно в вас присутствует?
— Между прочим, да. Есть такое романтическое представление о том, что мы призваны свидетельствовать. И для этого надо находиться тут. Ну, и потом есть у меня такое злое ощущение, что Москва — это мой город. Я не могу его отдавать.
— Что же делать-то в этом вашем городе, Лев Семенович? Радоваться нечему. И потом, заметьте: даже те, кто не уехал, не горят желанием общаться и встречаться. Вот это удивительно.
— Я знаю, почему! Потому что все в ступоре. Все переживают. На всех упал мешок с цементом, все стоят и отряхиваются… Мне кажется, то, что сейчас происходит, настолько тяжело, абсурдно и непредставимо, что об этом говорить не хочется. Но и о ни о чем другом невозможно говорить. Потому и не встречаются.
— Но вы же помните 1970−80-е годы, вы тогда живали…
— Жи-вы-ва-л!
— Да, живывали в золотые времена. И «застой» был, и андроповщина — но все только и делали, что встречались и тусовались…
— Только и делали, да. Счастливые времена. Было очень весело, но обычно всегда в каких-то четырех стенах. В мастерской Ильи Кабакова. На кухне моего друга и поэта Михаила Айзенберга, который, между прочим, тоже сейчас в Москве. У кого-то собирались по понедельникам, у кого-то были четверги. Снаружи этих кухонь-мастерских было абсолютно четкое ощущение враждебного окружения. А мы, как Буратино носом, прокалывали этот холст… И попадали в удивительные и прекрасные места. Мастерские особенно привлекали: прежде всего, по материальным причинам, там много народу помещалось и они всегда в центре. Допустим, звонит мне художник Эрик Булатов (он в Париже сейчас живет). Говорит: что ты делаешь завтра вечером? Я говорю: «Не знаю, ничего». «А я вот картину заканчиваю, хочу пригласить тебя и еще такого-то, давайте приходите, посмотрим новую работу и посидим!» Или, скажем, чтения какие-то. Все происходило спонтанно. Потом за стол садились, вынимали кто чего с собой принес. И начинался прекрасный разговор. Кто-то говорил: «А вот я стишок новый написал». «О, давай, давай!..» Счастье абсолютное.
— Сейчас вроде и стихи не перестали писать, и картины тоже, а формат таких встреч исчез. Почему?
— Ну, потому что проехали, чего уж там. И потом, после перестройки появились специальные места для подобных встреч: кафе, клубы. А тогда этого в принципе не было. Кроме мастерских, были еще библиотеки, а в них — курилки. Там возникали спонтанные дискуссионные клубы, люди сидели, разговаривали, постепенно выкристаллизовывалась какая-то общность, выяснялось, кто стукач и так далее… тогда это было обязательно.
— Вы умели это определять?
— Не умел. Более того, очень не любил это занятие, потому что в стукачи иногда определяли кого попало, а человеку таким образом портили всю жизнь. Вообще тогда «стукомания» была серьезная. Звонишь человеку: «Вечером приду к тебе в гости, только можно приятеля приведу?» «А кто это?» «Ну, мой приятель» «Ты давно его знаешь? Ты в нем уверен?» Я говорю: «Да что случилось, в конце концов?» А у человека на столе лежало что-то «тамиздатовское», и ему надо было понять: прятать или не прятать?
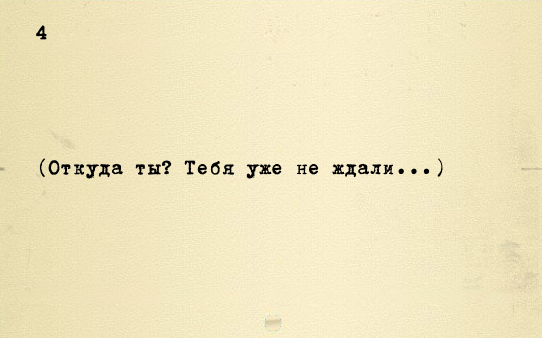
Лев Рубинштейн, Я здесь/rubinstein.vavilon.ru
— С системой у вас были столкновения?
— Да нет, «их» интересовали в основном каналы связи, наши отношения с иностранцами. А наши отношения с иностранцами были совершенно открытыми. Потому что никто из нашего круга завидных должностей не занимал и не беспокоился о том, чтобы их потерять. Я, например, в библиотеке служил: переводить меня некуда, разве что в дворники… Вообще до 1980-х наша компания была для «них» седьмой водой на киселе. Все-таки «они» имели дело с реальными диссидентами. А потом кто уехал, кого посадили — и, надо сказать, к нам уже вплотную приблизились — году в 1985−86. Но тут началась перестройка.
— Простите за банальный вопрос, страшно вам было?
— Страх был, но какой-то неконкретный, хотя многие уезжали и парочку моих знакомых посадили по-настоящему. Очень невротически действовала бурная эмиграция. Пик этого дела в нашей компании был в середине 1970-х. Уезжали художники, поэты, музыканты, филологи… Уехали художники Комар и Меламид, писатель Зиновий Зиник, Алик Рабинович — авангардный композитор с анекдотической фамилией… И знаете, это было не так, как сейчас. Сейчас все-таки люди уезжают, имея в виду, что они скоро вернутся. По крайней мере, так это выглядит, психологически ощущается: «Мы ненадолго, сейчас тут все кончится, и мы обратно». Может, это ложное чувство, но оно есть. А тогда уезжали безусловно навсегда. Это было тяжело. Все эти проводы были поминками: с пьяными слезами, с поездками в «Шереметьево», вот это все. Уезжали, и с мясом все отдиралось. Продавали библиотеки, раздавали вещи. Потом первое время переписывались, звонки какие-то… Кстати, в отличие от тех звонков, сейчас мы все еще можем говорить друг с другом свободно. О своем отношении к происходящему, например. Пока преследуется только публичное высказывание, и то не всегда. Я, например, регулярно публикуюсь в разных изданиях — пишу тексты и ни в чем особенно себе не отказываю. Не знаю, сколько это продлится. Но что есть, то есть.

Художник Илья Кабаков в своей мастерской, 1977 год. Фото Igor Palmin по лицензии Flickr
О поэтах и стукачах
— Как у вас с внутренней эмиграцией дело обстоит? Помогает опыт прежних лет?
— У меня надежная внутренняя эмиграция с 1970-х годов. Опыта и ощущений в этой области достаточно. Правда, сейчас она мне дается труднее, надо сказать. Потому что тогда все было более явным — абсолютно черно-белым. А сейчас много промежуточных…
— Оттенков серого?
— Ага. Наподобие приятного кафе, в котором мы сейчас сидим. Наподобие относительно комфортных городских служб. Я это начал ощущать еще во времена «капковщины», когда появились какие-то хорошие, красивые места, можно было поиграть в пинг-понг, на велике покататься… Тогда еще не было военных действий, но к власти я относился уже примерно так же, как и теперь.
— А что для вас внутренняя эмиграция? У кого-то буддизм, у кого-то алкоголизм, а у вас?
— Ну, искусство, поэзия. Разговоры, разговоры… Причем это же не просто треп был тогда, в 1970-е. Это были разговоры сущностные, важные. Например, «Домашние семинары», которые проходили лет десять. Регулярно, где-то раз в три недели, собирались в центре, там жил наш общий друг — Алик Чачко. Он жил в коммуналке, но был обладателем огромнейшей комнаты в 40 метров. Там было мало мебели и помещалось много людей. Такая поэтическо-художническо-философская тусовка. Либо поэт, либо прозаик, либо художник что-то читал или показывал. Потом был перерыв. Дальше начиналось обсуждение, в общем-то, главная часть. Потом еще один перерыв, уходили почти все. Оставалось человек 7−8, которые до полуночи сидели за столом, выкладывали из портфелей все, что принесли, и начинался главный разговор, который может идти только между своими. Это было, конечно, коммуникативное счастье. Вырабатывался общий язык разговоров об искусстве, который был конгениален самому искусству. Потому что разговор об искусстве, особенно для нас, концептуалистов, был не менее важен, чем само произведение. Ведь для чего произведения? Для того, чтобы о них говорили. Абсолютно все друг друга понимали. С Дмитрием Приговым, например, мы иногда просто переглядывались, даже слов не требовалось. Высочайший уровень взаимопонимания.
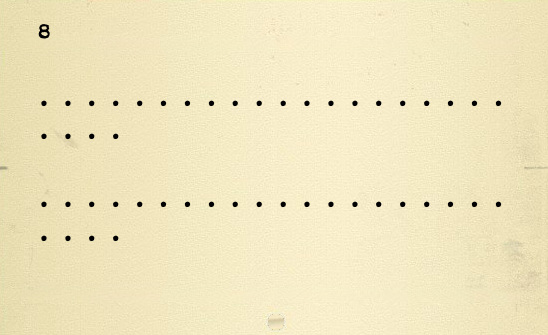
Лев Рубинштейн, Кто там в палевом тумане/rubinstein.vavilon.ru
— Как вам пишется в нынешних условиях, когда люди перестали говорить на одном языке?
— Смотря что. Колонки в разные издания я, например, пишу регулярно и с той же мерой внутренней ответственности, что и стихи. Думаю о порядке слов.
— А с поэзией как?
— Она пунктирно существует, не активно. За последние 2−3 года я написал какое-то количество новых стихотворений. Но я, видимо, совсем не тот автор в поэзии, который умеет откликаться, так сказать, на вызовы времени. У меня какие-то другие подземные толчки. Антивоенную поэзию я считаю очень важной, читаю ее, восхищаюсь, но меня самого там нет. Это, может, прозвучит несколько горделиво, но когда была Великая Отечественная война, то какие-то поэты стали сочинять много и хорошо на военные темы, а какие-то, вроде моего любимого Пастернака, на эту тему молчали (Это не совсем так: у Пастернака есть несколько стихотворений о войне, например «Разведчики», «Смерть сапера», «Застава» и др. — Ред.). У всех разные инспирации. В общем, в стихах я не высказываюсь. В колонках и постах — да.
— А какой антивоенной поэзией вы восхищаетесь?
— Современной. Ее довольно много. Недавно моя жена собрала и составила двухтомник «Понятые и свидетели. Хроники военного времени». Туда вошли стихи Юлия Гуголева, Сережи Гандлевского, Линор Горалик, Елены Фанайловой, Веры Павловой, покойный Леша Цветков тоже успел отметиться. Этот двухтомник издал в Тель-Авиве Евгений Коган, презентовал его на «СловоНово» в Черногории. Те, кто читают стихи, им «зашло», как говорит молодежь. Потом еще вышел том «всякой такой» поэзии в издательстве Ивана Лимбаха в Питере.
— Как же они умудрились его издать?
— Взяли и издали. Думаю, что надзирающие органы по инерции до стихов еще не дошли. Им это кажется детской забавой. Их интересуют большие тексты, публицистика, и то не всякая. Реагируют они, как я понимаю, больше на конкретные доносы. Это вообще, мне кажется, главная экзистенциальная проблема нашего отечества — огромное изобилие стукачей.
— Наверное, сейчас выгодно ими быть?
— При плохой экологической ситуации нашей истории они размножаются мгновенно: у них благоприятные условия… А вообще, мне кажется, сейчас действуют примитивные представления о выгоде — просто сидеть и слушать, что говорит начальство. И не только поддакивать, а еще и преумножать сказанное, то есть говорить то же самое, но громче. Особенно в этом преуспевают наши депутаты — они, конечно, радуют несказанно. Просто прелесть.

Джозеф Кошут. Один и три стула. 1965 год. Фото eotanez по лицензии Flickr
Поверхностное время
— В одном из интервью вы сказали, что сейчас у нас особое время — поверхностное. Очень интересно узнать подробности: что это за время такое?
— Видимо, я имел в виду, что это время уникально тем, что оно не наше. То есть мы формально живем в нем, но впрямую не можем на него влиять. Я мог бы сказать, что все стало слишком похоже на компьютерную игру, если бы не знал, что льется настоящая человеческая кровь, и ее много. Но это моя беда: у меня не хватает воображения применить это к себе. Я об этом знаю, я включаю эмпатию, но я не там.
— У вас есть знакомые в Украине. Не поменялись ли ваши отношения? Известно много случаев, когда любые контакты полностью прекращались, причем очень резко.
— Я прекрасно понимаю ненависть людей, которые пережили бомбежки. Я даже понимаю, когда люди, сидящие в Канаде, всех ненавидят. Но я состою в переписке с киевскими друзьями-поэтами — и все абсолютно лояльны, более того, даже выражают некоторое сочувствие. Есть замечательный киевский поэт Саша Кабанов, который мне пишет: «Как ты там? Не страшно тебе?» В общем, беспокоится за меня. А я за него. Другая ситуация — у нескольких моих знакомых-россиян есть дома в Полтавской области. И вот они сейчас списались с местными соседями и выяснили, что дома по-прежнему за ними, никто их не отнял, местная власть их не тронула. А еще я знаю, что почти каждый владелец этих домов распорядился, чтобы там поселили украинских беженцев.
— Что у нас впереди, как вам кажется? Будут новые 80-е? Интернет отрубят?
— Я очень не люблю разговоров о будущем. Никто ничего не знает. Я не верю тем, кто говорит: будет то-то и то-то. Истоки будущего, как всегда, надо искать в прошлом. Надо помнить, что в истории все рифмуется, но не повторяется буквально. Потому что рифма — это не повторение, а созвучие.
— Хорошо, закончим в настоящем. Как проходит ваш день? Что вы сейчас делаете?
— Пишу колонки, читаю новости, стараюсь гулять, мне надо много гулять. Ничего экстраординарного. Бывает, зовут на поэтические вечера. В школу вот позвали. Кстати, когда меня зовут к детям, я никогда не отказываю. За последние три месяца я раза три ездил в Питер — приходила куча народу. Преимущественно молодые. Мне это очень приятно.
— Ничего себе! Казалось бы, этот формат давно исчез. Знаете, «Творческие встречи с Джимом Моррисоном»: журнальный столик, минеральная вода…
— Да-да-да! Все так. Но это трогательный формат. И нужный. Потому что люди истосковались, потому что всем страшно, все в тревоге и тоске, и вдруг вот — человек тут, рядом. Это еще одно из объяснений того, почему я не уезжаю. Видимо, кому-то надо, чтобы я был здесь. Я все время цитирую 66-й сонет Шекспира, самый главный. «Измучен всем, я умереть хочу / Тоска смотреть, как мается бедняк / И как шутя живется богачу…» Короче, все там у героя х…во, и он хотел бы умереть. А кончается так: «Измучась всем, не стал бы жить и дня, / Но другу будет трудно без меня». Для меня это важный аргумент.
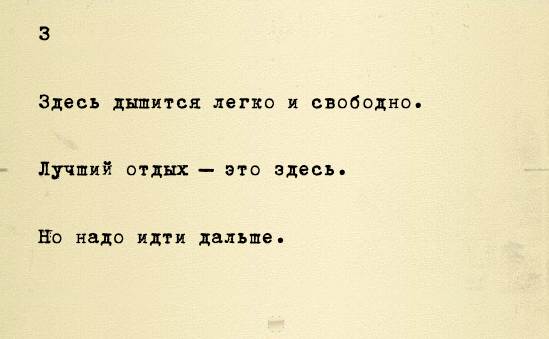
Лев Рубинштейн, Все дальше и дальше/rubinstein.vavilon.ru





